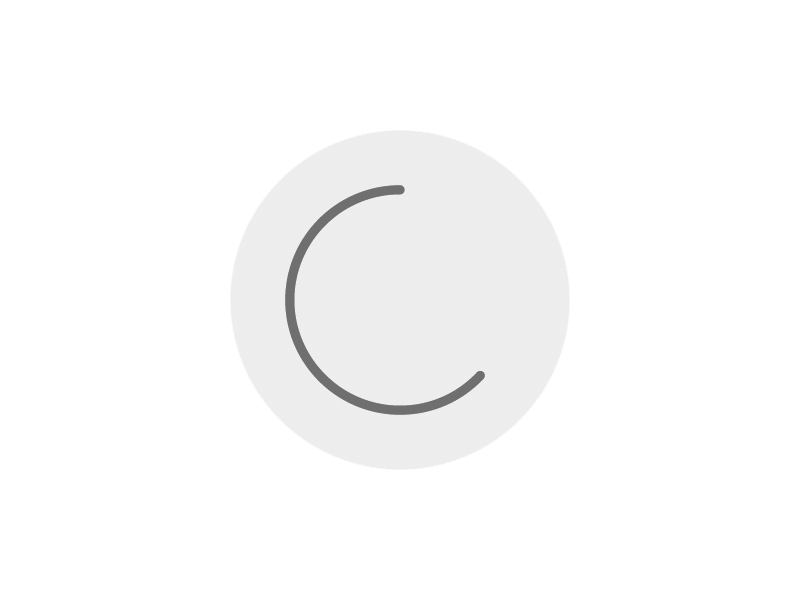Польская литература онлайн №13 / Тернии Грюневальда. «Образ и подобие». Иоанн Павел II. «Медитации над Книгой Бытия на пороге Сикстинской капеллы»
1.
Вторая часть поэмы Иоанна Павла II «Римский триптих» называется «Медитации над Книгой Бытия на пороге Сикстинской капеллы» и рассказывает о встрече автора с шедевром Микеланджело. Встреча эта носит вдвойне личный характер.
Во-первых, Сикстинская капелла — это место, где проводятся конклавы (что косвенно отразилось в стихах). Во-вторых, важно помнить, что именно во время понтификата Иоанна Павла II были отреставрированы фрески Микеланджело, а в проповеди, произнесенной в 1994 году по случаю окончания реставрационных работ, Папа подчеркнул, что «Сикстинская капелла говорит о величии Бога»
«Римский триптих» позволяет это утверждение развить и углубить в духе ответа на современный кризис ценностей, в частности кризис ценности искусства и ценностей в искусстве. Ибо сам контекст поэмы свидетельствует о том, что искусство, говорящее о величии Бога, — не просто иллюстрация текста Священного Писания. Оно не сводится к выполнению традиционно приписываемых ему со времен Второго Никейского собора дидактических функций
2.
Вступительная часть «Медитаций», озаглавленная «Первый Видящий», поднимает ключевую для всего текста тему ви́дения
Следовательно, ви́дение и видимость — это феномены, связующие Бога и человека, точка их соприконовения. Бог, существовавший до сотворения мира, был Словом. И только с сотворением видимого мира Он стал Видящим, а человек, укорененный в этой видимости с самого начала своего существования, считает ви́дение одним из фундаментальных методов познания. Видимые создания с самого начала «хороши» в глазах Бога, поэтому видимость наделена позитивным свойством — способностью проявлять то, что доселе было невидимым и что по сути своей является «подлинным, хорошим и красивым». Так что из этой части поэмы следует, во-первых, что видимость — это нечто позитивное, а во-вторых, что человек, «второй видящий», может приблизиться к пониманию Бога, поняв видимый мир (впрочем, не столько делая выводы о природе Творца на основании знаний о природе творения, сколько обозревая видимый мир — то есть совершая действие, которое было прерогативой Бога).
Оба эти утверждения только до некоторой степени соответствуют укорененному в христианской традиции богословию художественного образа. Ибо традиция эта обычно оценивала ви́дение положительно лишь в той степени, в какой оно отсылало к каким-то высшим, метафизическим значениям и смыслам
Я говорю о более фундаментальном аспекте ви́дения. Человек на земле пребывает в видимом мире — и одновременно «в Нем». Следовательно, пребывание «в Нем» — это существование видимое, телесное, только в этом измерении и доступное человеку, ведь Бог не является человеку иначе как через чувственно доступный опыт. В этом смысле богословский смысл ви́дения заключается не в расшифровке «высших значений», заключенных в доступных взгляду объектах, но в том, чтó оно есть само по себе. Именно поэтому предметом восхищения в «Римском триптихе» становятся «многоступенчатое богатство красок» и «буйная зримость» сикстинской полихромии. Это они, а не конкретные изображения конкретных библейских сцен приковывают к себе внимание поэта (и потому поэму трудно даже частично назвать экфрасисом): автор упоминает библейских персонажей (Творец, Адам, Ева) и соответствующие сцены (Сотворение мира, Страшный суд), но не рассказывает о том, как они выглядят на сикстинских фресках. (Только в одном месте Иоанн Павел II чуть более подробно описывает одного из персонажей: «На сикстинской фреске у Творца человеческий облик. / Он — Всесильный Старец, Человек, тварному Адаму подобный»
В «Римском триптихе» о современном искусстве речь заходит напрямую, пусть и без подробностей. Цитируя слова из Книги Бытия — «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его», — лирический субъект ищет ответ на вопрос об условиях такого подобия у художников. Характерно, что он не уверен, знают ли современные художники ответ, — но ведь самое важное здесь то, что это лишь сомнение, а не однозначная уверенность в неспособности художников этот ответ сформулировать:
«Создал Бог человека по образу Своему и подобью,
мужчину и женщину создал их —
и увидел Бог, что хорошо весьма,
они же были наги и не стыдились».
Разве это возможно?
Современников не спросишь, но Микеланджело знает
(а может быть, и современники тоже?!).
Обратись к Сикстинской капелле
Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Medytacje. S. 18. [10].
Это позволяет преодолеть оппозицию «религиозного произведения» и «произведения искусства», которые противопоставляет друг другу Ханс Бельтинг, доказывая, что в эпоху Возрождения картины стали создаваться по «правилам искусства», и оно перестало быть религиозным феноменом
3.
С такой точки зрения росписи в Сикстинской капелле выступают аналогом сотворенного Богом видимого мира: как Предвечное Слово, запуская бег времени, сотворило видимый мир, где видны его (Слова) следы, так Микеланджело своим произведением иллюстрирует события, о которых говорится в Библии. Эта аналогия сперва служит оправданием художника, попытавшегося совершить невозможное: превзойти слово, инструмент, которым оперирует Священное Писание. Использование в этом контексте визуальных художественных средств, попытка перевести язык слова на язык живописи, поначалу кажется сомнительным. Иоанн Павел II спрашивает без обиняков: «Может, всё это проще было сказать языком библейской Книги?»
Но поинтересуемся, однако, что же такое, в сущности, «всё это»? Вероятно, это рассказанная ранее история появления «видимости». Именно поэтому Иоанн Павел II придает такое значение труду художника
Но Книга образа ждет. — Да, она своего Микеланджело ожидала.
Ведь Творивший «видел» — видел, что «хорошо» творенье.
«Видел», стало быть, Книга ждала плодов «взгляда»
Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Medytacje. S. 16. [14].
Подобно тому как Слово в божественном акте творения стало видимым во всем, что обрело бытие, так и Книга Бытия обрела видимость благодаря творческому гению Буонаротти. Иоанн Павел II прочитывает фрески Микеланджело как произведение художника, интерпретирующего библейскую историю, художника, задача которого, по словам Макса Имдаля, — «придумать видимость»
С точки зрения тематики (изображаемых в произведении событий) фрески Микеланджело основаны на библейском тексте. История о сотворении мира и изгнании из рая, содержащаяся в Книге Бытия, самодостаточна как литературный текст; ее многочисленные переложения на язык живописи, выполненные для различных сакральных сооружений, обычно носили характер интерсемиотического перевода, который, с учетом его особой функции иллюстрирования Священного Писания, постоянно стремится к недостижимому идеалу верности букве оригинала. Тем временем фрески Микеланджело в интерпретации Иоанна Павла II не столько дублируют содержащееся в Библии вербальное послание, сколько дополняют его. В поэме появляется примечательная фраза: «Взгляд образа ждал»
Здесь выразительно подчеркнут именно творческий, а не слепо воспроизводящий Писание аспект работы художника
Ответ на этот вопрос лежит в самой материи произведения. Согласно представленной в «Римском триптихе» концепции, человек, способный смотреть и видеть с должной этической и эстетической чуткостью, подобен Богу (который «увидел, что это хорошо»). Бог был Первым Видящим, и, хотя, как пишет Иоанн Павел II, «видел взглядом иным, не таким, как наши», каждый следующий видящий повторяет за ним это действие и посредством ви́дения убеждается в существовании добра, истины и красоты. Поэтому не только акт создания произведения живописи уподобляет человека Богу. Ту же самую роль играет акт зрительного восприятия. Восприятие картины с библейским сюжетом — это не только «чтение слова», но и напоминание о том, откуда взялся каждый акт ви́дения, направленный на видимость, откуда и когда взялся миропорядок. Именно поэтому о самом ви́дении говорится как о действии, вдохновленном Богом: «Это Он дает им часть в красоте, что вдохнул в них. <...> / Это Он отверзает им очи»
Вместе с тем видимость как феномен, возникший вместе с появлением физического мира, заставляет обратить внимание на то, что видимое в то же время является бренным, преходящим (как мы помним, «за порогом начало мира»). А значит, неизбежен финал, когда, как пишет Иоанн Павел II, «имеющее форму» превратится в «бесформенное». Видимость, таким образом, является способом существования бренного, однако это еще не повод относиться к ней пренебрежительно. Ведь благодаря ей существует представление о ценностях («и увидел, что это хорошо»), неизменных даже после того, как физическим и видимым явлениям придет конец. Поэтому в «Триптихе» и говорится: «Но я не весь умираю, / и то, что нетленно, во мне живет!»
О том, что в людях неуничтожимо, ибо оно подобно Богу, лучше всего знают художники, преданные изучению и увековечиванию того, что зримо. Еще и поэтому в «Римском триптихе» Иоанн Павел II пишет, что вопрос, в чем суть сотворения человека «по образу и подобию», лучше всего адресовать именно произведению живописи
Папа-поэт убеждает читателя, что человек, духовное и одновременно телесное существо, мог появиться только в мире физическом и видимом. При этом смысл человеческой жизни именно в преодолении телесности и видимости. И речь тут не о «бессмертных» произведениях человеческого гения, которые, подобно Сикстинской капелле, хоть и не устаревают, но все-таки невечны. Тем, что в самом деле непреходяще, оказывается понимание того «благого», что проявляется в видимом мире и с чем мы вступаем в контакт, будучи людьми, сотворенными «по образу и подобию». Эта разновидность знания черпается человеком из опыта ви́дения. Произведения живописи (не только на библейскую тематику!), затрагивая зрительный аспект чувственного восприятия, обращают внимание человека на визуальное измерение мира, который — изначально — был сотворен «благим».
Стоит обратить внимание на то, как Папа понимает взаимодействие произведения искусства с тем, кто это произведение воспринимает. Понимание это отчетливо выражено в цитируемом фрагменте, да и в целом находит отражение в антропологических взглядах, излагаемых на страницах «Триптиха». Иоанн Павел II указывает на необходимость обратиться к произведению с вопросом — вопросом, который явно опережает озарение, возникающее в процессе контакта с произведением. Потребность задавать вопросы — это, как мне кажется, не что иное, как разновидность «изумления», о котором говорится в одноименном стихотворении, открывающем «Римский триптих». Читаем:
Он был одинок в своем немом изумленьи
среди существ, которые не изумлялись, —
им было довольно жить, уходя незаметно.
Человек уходил вместе с ними
на волне изумленья.
Изумляясь, выныривал снова и снова
из этой волны, что его уносила
Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Medytacje. S. 9. [22].
Человек — существо, которое, в отличие от других созданий, способен изумляться собственной экзистенции, ее бренности, способен также формулировать вопросы о самом себе, с которыми он обращается к окружающему его видимому миру: например, к ручью («Ручей») и даже к картине или статуе. По мнению Иоанна Павла II, произведение искусства иногда может дать ответ на эти вопросы — разумеется, если человек захочет их задать: как писал Пауль Тиллих, «ответ, содержащийся в откровении, не имеет смысла, если не был задан вопрос, на который дается этот ответ. Нельзя получить ответ на вопрос, который не был задан»
4.
Кароль Войтыла в своих стихах задавался вопросом: каким образом Бог и человек могут общаться друг с другом, через какие предметы и феномены Бог является человеку и как человеку развить свою чуткость, чтобы лучше и полнее увидеть Бога в его творениях. Одним из путей взаимной коммуникации оказывается живопись
Здесь выводы Иоанна Павла II оказываются близки — пусть и несколько парадоксальным образом — тезисам экзистенциально-герменевтической истории искусства, восторжествовавшей в XX веке. Микаэль Брётье, представитель этого направления, писал:
Что касается религии и философии, то человек должен постоянно, вновь и вновь двигаться по направлению к тому, что непререкаемо, что является для него постулатом. Картина, на которую он смотрит, не оставляет в его душе места для сомнений. Вопреки разнообразным утверждениям, произведение искусства — это сфера, где утверждается истина. В этом заключается источник высочайшего признания, на какое оно только может рассчитывать — оно помогает человеку понять, кто он по сути своей
Brötje M. „Wieczerza w Emaus“ Rembrandta. Realizacja objawiania się historii świętej w obrazie [«Ужин в Эммаусе» Рембрандта. Евангельская история, рассказанная на языке картины] / Tłum. M. Haake // Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones“ [Перспективы современной истории искусства. Антология переводов „Artium Quaestiones“] / Red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki. Poznań, 2009. S. 1088. [25].
Сикстинская капелла, которую Микеланджело прославил своими фресками, упомянута в поэме Иоанна Павла II в очень личном контексте. В «Послесловии», которое венчает анализируемую здесь вторую часть «Триптиха», упомянута особая функция этого пространства:
Те, кому о наследье ключей доверено печься,
собираются здесь, давая объять себя фрескам,
тому образу, что Микеланджело нам оставил, —
Так и в августе было, а затем в октябре в тот год
двух конклавов,
и так будет снова, когда настанет время
после смерти моей
Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Medytacje. S. 26. [26].
Произведение Микеланджело, в художественной форме говорящее правду о божественном и человеческом ви́дении, по мнению Папы, выполняет во время конклава важную задачу:
Пусть же труд Микеланджело отзовется в их душах. <…>
<...>Они зрят себя между Концом и Началом,
между Днем Творенья и Судным Часом…
Ibid. [27]
Как указывает Иоанн Павел II, все, кто стоит на пороге Сикстинской капеллы — в том числе и участвующие в конклаве кардиналы, — «объяты фресками» Микеланджело. Он заставляет зрителей задуматься не только об изображенном на фресках, но и о том, как человек, становясь «видимым знаком вечной Любви», может реализовать свою человечность и увидеть подлинную ценность того, что доступно человеческому взгляду.
Джованни Реале пишет, что «в Кароле Войтыле соединились <...>три великие духовные силы, всегда помогавшие человеку в его поисках истины: „искусство“, „философия“, „вера и религия“»
Из книги Катажины Шевчик-Хааке «Тернии Грюневальда. Об экфрасисе и не только», СПб, Издательство Ивана Лимбаха. 21 января книга вышла из печати!
Скачать книгу в оригинале: Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach - Katarzyna Szewczyk-Haake | Nowy Napis