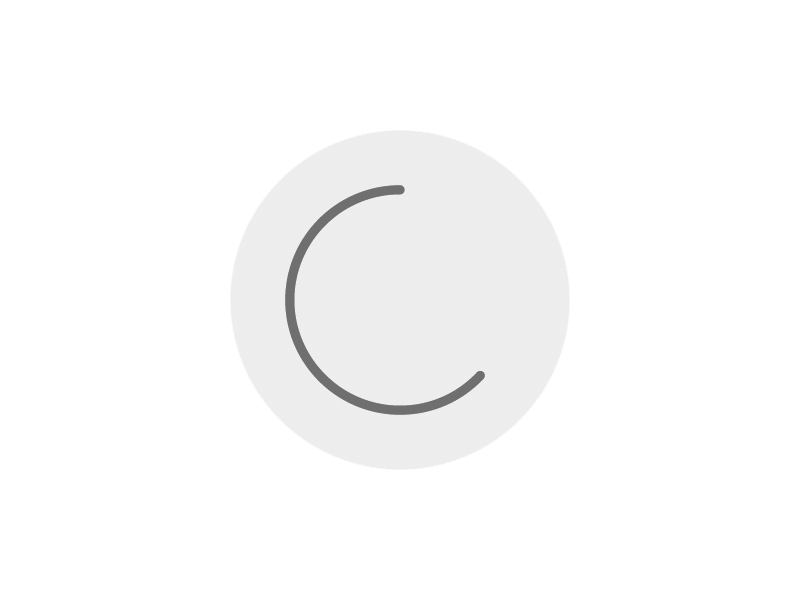Ноги Изольды Морган
Exposé
«Словно небо в тяжелых складках,
что нависло, опять не в духе,
я — огромная свиноматка
с миллионом сосков на брюхе».
«Футбол всех святых»
Сдается мне, что на этот раз без предисловия не обойтись. Попробуем подойти к этому по возможности хладнокровно.
Отношение польской публики к моей персоне за последние несколько лет стало совершенно очевидным и при этом довольно оригинальным, так что в комментариях оно не нуждается. Бывали у нас и раньше авторы любимые и нелюбимые, популярные и непопулярные, обожаемые и вызывающие равнодушие. Эти категории авторов образовывали и образовывают так называемую литературу. Но рядом с этой «официальной» литературой, как бы за ее скобками, в каждой эпохе есть свои «прóклятые поэты», о которых говорят неохотно, вскользь, с явной неприязнью. Тут уж ничего не поделаешь. Люди с такими взглядами — заурядные варвары, либо не понимающие той утонченной игры, каковой и является так называемая литература, либо упрямо делающие вид, что ее не понимают.
Представьте, что в некое светское общество, где люди забавы ради разыгрывают какую-нибудь изящную комедию, попадет человек непроинформированный либо, что еще хуже, просто плохо воспитанный и начнет ко всему относиться всерьез. Разумеется, игра будет испорчена, ее участники заберут свои игрушки и повернутся спиной к непрошенному болвану.
Так было всегда.
Случается, что последующие эпохи возводят этих невоспитанных людей на пьедестал и именно их начинают считать героями своего времени, совершенно не переживая за оскорбленную ими приличную компанию.
Иногда такое отношение в общих чертах остается неизменным.
Все зависит от того, выступали ли эти люди от имени какой-то очевидной для них истины или руководствовались исключительно снобизмом pour passer le temps
Примеры: Христос и Оскар Уайльд.
Пусть история рассудит, к какой из этих двух категорий причислят нас. Споры на эту тему, ведущиеся в нашей прессе вот уже два года, как минимум бесплодны и пусты.
Когда в августе 1921 года в Закопане я возвращался с поэтического вечера, на котором читал свои лучшие стихи, а зрители на протяжении всех Крупувок
В различных городах Польши проходили антифутуристские манифестации, полиция сорвала мой вечер в Варшаве, конфисковывались книги, депутаты Кракова просили городские власти не предоставлять мне впредь помещение городского театра для организации там моих вечеров, из Крыницы, где я хотел встретиться с читателями, меня в административном порядке выдворила полиция, поскольку «в интересах Речи Посполитой» мое пребывание там было признано «возмутительным», общественность и депутаты (Дымовский) регулярно срывали с афишных тумб мои плакаты, «национально-демократическая» учащаяся молодежь пыталась не допустить моих чтений во Львове и так далее, и тому подобное — и все эти вехи указывают мне, что с правильного пути я не сошел.
Так что публика была бы несправедлива, считая, что я недооцениваю ту роль, которую она сыграла в моем творческом развитии. Наоборот, она выступает постоянным регулятором моего творчества, чем-то вроде предохранительного клапана, определяющего стоимость производимых мной вещей.
Выпуская мою новую книгу, я по ряду причин посчитал необходимым снабдить ее некоторыми confessions
Книга эта несколько отличается от моих предыдущих работ, известных уважаемой публике. Некоторые наверняка тут же начнут рассуждать о смене направления, новом творческом этапе, литературном дрейфе «вправо» и так далее. Этих людей я хотел бы заранее успокоить.
В первую очередь именно эта книга выдержана в духе моего творчества и представляет собой нечто вроде подведения итогов определенного, хоть и небольшого его периода.
То, что в качестве литературного жанра я в данном случае выбрал роман, совершенно логично.
Во-первых, провозглашая лозунги демократического искусства, трудно игнорировать роман как таковой, поскольку из 15% читающих поляков 14,75% читают одну беллетристику, и только 0,25% — поэзию.
Во-вторых, пытаясь очистить от гноя польское искусство, невозможно не задеть эту ее ветвь, поскольку она самая гнилая.
Я не утверждаю, что эта книга может служить примером того, как нужно писать современные романы.
Но она, безусловно, служит примером того, как в наши дни нельзя писать романы. (Эта шутка, которая здесь, дорогой читатель, приходит тебе в голову, свидетельствует только о твоей наивности).
Назло всем моим издателям, которые платят мне за авторский лист, в этом романе ровно столько страниц, сколько нужно (не больше и не меньше), и его архитектурная конструкция абсолютно железобетонна. Унизительные тесемки старого романа, вредящие принципам простой конструкции, надеюсь, безвозвратно остались в далеком прошлом.
Сегодняшний роман должен перестать быть изложением определенных фактов, последовательность которых вызывает у читателя соответствующие этим фактам психические состояния. Эта стратегия изначально ошибочна и может быть успешной только в отношении читателей с очень примитивной душевной организацией.
Современный роман вызывает у потребителя определенные ключевые психологические состояния, на основе которых читатель и конструирует ряд соответствующих этим состояниям фактов. Поэтому каждый читатель может выстроить фабулу по-своему, и в этом заключается ее неисчерпаемое богатство.
Тему для этого романа я выбрал остросюжетную, что, впрочем, не имеет особенного значения. Она зловеща ровно настолько, насколько зловещим становится любой вопрос, если мы решимся додумать его до конца. Попробуем в течение часа поразмышлять о каком-нибудь здании, мимо которого мы проходим ежедневно, совершенно его при этом не замечая, — и это здание постепенно приобретет для нас поистине кошмарные размеры. Точно так же, если слишком долго вглядываться в одну точку, реальные контуры предмета начнут расплываться, и там, где только что стояла античная статуя, мы сможем увидеть корову в жилетке и китайца.
Бешеный ритм современной жизни, с неумолимой логикой катящейся, словно по наклонной плоскости, к некоему назначенному пункту со скоростью разогнавшегося радиосигнала, породил совершенно новую разновидность реальности — реальность раскаленной до красна стали, балансирующей на грани галлюцинации.
Вот какова эта книга.
Она также препарирует некий очень характерный аспект современного сознания (который я назвал бы футуристическим сознанием), ставшего итогом последних полутора десятка лет.
Это все, что мне хотелось о ней сказать.
Так называемый дуализм содержания используется здесь мной совершенно сознательно и последовательно, поэтому я прошу уважаемых критиков не тратить время на открытие этой Америки.
Ноги Изольды Морган
(роман)
«Уж какая ж эта ножка,
ножка, вспухшая немножко!»
Достоевский, «Братья Карамазовы»
«Это случится однажды — внезапно, точно удар под дых...»
Ясенский, «Баллада о трамваях»
1.
Когда четырнадцать пар дрожащих рук, в перчатках и без, наконец-то вытащили из-под передних колес трамвая №18 окровавленное тело Изольды Морган с волочащимися на нитях нескольких сухожилий ногами, отрезанными ниже паха и вселяющими ужас, всеми этими людьми вдруг овладело неприятное чувство совершенной ими бестактности.
Девушке было двадцать три года, у нее были длинные каштановые волосы, рассыпанные в беспорядке, безупречно прекрасное тонкое лицо и чудесные ноги «от ушей» — верный признак всякой породистой женщины.
Дальнейшие события развивались как-то даже чересчур стремительно. Примчалась санитарная карета и тут же умчалась, увозя в своих недрах весь инцидент. Через час обе ноги были уже ампутированы, а вечером больная, помещенная в отдельную палату, спала тяжелым целительным сном без сновидений.
2.
Берг, который на этой неделе развлекался в соседнем городе, был извещен о случившемся только на другой день коротким и невнятным письмом, в котором шла речь о какой-то аварии. Его просили немедленно приехать.
Гомон перрона, грохот дверей, запах свежей краски, пляшущий калейдоскоп деревьев на диафрагме окна — все это, словно бисеринки четок, нанизанные на нитку неясного глухого беспокойства, осыпалось в глубину его души, оставив на ней длинную отвесную царапину.
Когда, представившись дежурному врачу, он слушал бесстрастный отчет о произошедшем, то был уже совершенно спокоен.
После того, как ему все рассказали, он попросил о свидании. В палату он вошел в сопровождении доктора.
Больная не спала.
Она лежала на спине с широко открытыми глазами.
Берг встал у нее в ногах. Он был готов к тому, что нужно будет что-то сказать, однако в этот момент ничего подходящего ему в голову не приходило (...тяжелые, пушистые свечи каштанов в долгой, идеально прямой перспективе, холодный влажный вкус губ, прижатых к губам, тепло маленькой руки, проникающее сквозь замшевую перчатку... помнишь...).
Он даже попытался улыбнуться, но в этот момент его взгляд наткнулся на обвисшую линию одеяла, создающую уму непостижимую пустоту ниже бедер (...Боже, Боже, только не думать...).
Какая-то липкая сладкая жижа подступила ему к горлу.
И снова каштаны, и снова вкус влажных губ, и долгая узкая нагота, выныривающая из солнечной пены юбок (...тихо, тихо, дорогая, не буду же я кричать...).
Какая забавная физиономия у этого доктора. Левый ус у него обвис, словно у майского жука, на кончике носа вскочил прыщик.
И тогда он встретился взглядом с ее глазами, глазами испуганной побитой собаки (...у отца, во дворе — утопили ее щенков...). Глазами, словно молящими о пощаде, впившимися в него в напряженном ожидании.
Он почувствовал, что тушуется под этим взглядом, что краснеет, как мальчишка, что стои́т тут уже несколько минут, что нужно наконец что-то сказать и что он ничего не скажет. И вдруг ему захотелось сбежать (...на улице люди, экипажи, гомон и грохот, звон трамваев, дзынь-дзынь...). Почему у этого доктора такая странная физиономия? О, вот и дверь, теперь скорее домой, домой!
Он бежал, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, пока не оказался на улице, где смешался с пестрой разгоряченной толпой. Споткнулся и упал, весь красный, горячий, как кумачевая тряпка. Круглая, круглая бесконечность. И над раздувшейся буквой «I» города горит жирная точка солнца.
Люди бежали, шли и толкались, рычали автомобили, звенели трамваи, выплевывая и заглатывая на остановках пассжиров и проезжая мимо него с равномерным скрежетом граненых рельсов.
3.
Уже поздно вечером к старшему санитару клиники, Тимотеушу Лерхе, старому бывалому громиле с лицом, покрытом оспинами и рыжей щетиной, подошел хорошо одетый молодой человек, который, отозвав санитара в сторону и вертя в пальцах пятисотфранковую банкноту, спросил его, не окажет ли он ему одну услугу. Тимотеуш Лерхе заверил незнакомца, что находится в его полном распоряжении. Тогда тот, по-дружески взяв его под руку, пояснил, что он является родственником привезенной сюда два дня назад Изольды Морган, попавшей под трамвай, и что он хотел бы, если это возможно (при этих словах банкнота многообещающе зашелестела), получить обе ампутированные ноги своей кузины.
Тимотеуш Лерхе, ничем не выдав своего удивления, послушно кивнул в знак того, что все понял, пообещав только уточнить, не были ли уже выброшены конечности вместе с другими отходами, после чего удалился, указав посетителю на стул.
Через двадцать минут он вернулся, неся под мышкой большую длинную коробку, тщательно завернутую в серую бумагу. Со стороны могло показаться, что это коробка из модного магазина готового платья, а розовая ленточка, которой была обвязана картонка, придавала ей праздничный вид. Тимотеуш Лерхе молча подал сверток незнакомцу. Пятьсот франков опустились в карман его халата. Затем санитар поинтересовался, не прикажет ли незнакомец, чтобы мальчик-посыльный отнес коробку к нему домой.
Молодой человек, однако, не воспользовался этим предложением и, взяв сверток под мышку, вышел на улицу один, сопровождаемый низкими поклонами санитара и двух вахтеров.
4.
В конторе, где работал Берг, новость о случившейся с ним беде распространилась молниеносно, создав вокруг несчастливца атмосферу приглушенных перешептываний и молчаливого сочувствия.
«Товарищество городской электростанции», где Берг был одним из дюжины инженеров, предложило ему месячный отпуск. Берг отказался. Он по привычке приходил на работу очень рано. Вечерами его нигде не видели. Приятели, решив однажды проведать его после работы, обнаружили на дверях листок бумаги с надписью «Не беспокоить».
Все знали, что после того визита у Изольды он больше ни разу не был у нее в клинике, и находили этому самые разные объяснения. Во всем остальном он был такой же, как и всегда, разговаривал, улыбался. Со временем окружающие стали поговаривать, что любовь Берга к Изольде была не такой уж сильной. Понемногу эта уверенность передалась всем. А вскоре на Берга и вовсе перестали обращать внимание. Разве что чувствовали на него какую-то необъяснимую обиду за то, что он так легко смирился со своим несчастьем и обо всем забыл.
5.
Это были вызывающе белые и удивительно длинные ноги. Увенчанные маленькой узкой стопой с высоким сводом, весьма изящные в суставах, они вспыхивали безупречно вылепленной голенью, очень продолговатой, твердой и упругой. Начиная с миниатюрных колен белое бедро с его бархатным лоском было целиком покрыто сетью едва заметных голубых жилок, придающих женскому телу величественность мрамора. Маленькие стопы по-прежнему утопали в неглубоких лакированных туфельках, а черные шелковые чулки окаймляли ноги выше колен, как и в те времена, когда те еще носили свою хозяйку. Ампутация произошла очень быстро, и ноги были отрезаны возле самого паха, так что обнажать их полностью не было необходимости. Помещенные на кушетку и небрежно закинутые одна на другую, укрытые сверху широким пледом, они производили впечатление живых конечностей спящей, накрытой с головой женщины.
Берг просиживал над ними часами. Он знал любую их мышцу, называя каждую по имени. Проводя рукой вдоль quadriceps cruris
То, что ноги Изольды спустя две недели оставались столь же розовыми и свежими, как и в первый день после операции, было для него чем-то совершенно естественным. Ничего другого он себе и представить не мог — это показалось бы ему таким же нонсенсом, как утверждение, что Нике Фидия грозит разложение, поскольку у нее нет головы. Впрочем, это ведь по-прежнему были ноги живой женщины, простой случайностью отделенные от всего остального тела, но не переставшие из-за этого быть ее органической частью, слившейся навсегда с ее живой неделимой личностью.
6.
На часах полночь. Нынче ночью Берг дежурит на электростанции. В принципе он мог бы сидеть в своем кабинете наверху, однако в глубине души он боится одиночества, хотя и не признается себе в этом.
Яркий свет ламп, ровное гудение машин успокаивают и навевают сон.
Берг проходит по очереди между двух рядов работающих машин.
Свист вращающихся спиц и рокот двигателей. Музыка разогретой стали.
Некоторое время Берг неотрывно смотрит на вращающееся колесо, и у него начинает слегка кружиться голова. Тут же его внимание привлекает огромный поршень, равномерно вздымающийся и опускающийся. Поршень издает глухое усталое сопение. Бергу это напоминает совокупление. Он почти с ужасом смотрит, как огромный поршень неутомимо опускается и вновь поднимается. Машина сношается.
— Почему же они все-таки не размножаются сами, — бормочет Берг и чувствует, как вдоль его позвоночника бегут холодные мурашки. — Дикие бесплодные звери, — бросает он, не оглядываясь, и ускоряет шаг.
Но аллее машин конца-края не видно. Справа и слева в безумном темпе опускаются и поднимаются двигатели. Берг чувствует, как его обдает суровой безграничной ненавистью, веющей от машин. Извечная ненависть работника к своему эксплуататору. Он чувствует себя маленьким и беспомощным в окружении этих железных существ, словно его бросили им на растерзание. Ему хочется кричать, и только последними усилиями сознания он приходит в себя. «Они ненавидят меня, — отчетливо понимает он, — но они вмонтированы в пол и не могут мне ничего сделать». Желая показать самому себе, что ему не страшно, он останавливается возле одной из машин и некоторое время насмешливо присматривается к ней. Колеса вращаются здесь немного медленнее, словно нехотя. Зверь притаился и ждет. Берг внезапно чувствует непреодолимое желание коснуться рукой вращающейся спицы. Он не может отвести взгляд от стальной детали.
— Только дотронусь и сразу отдерну руку, — внятно говорит он сам себе. Он хочет отскочить от машины и убежать, но не может. А колесо, кажется, вращается все медленнее, все ленивее... Огромная рука спицы растет, вытягивается... Слышно ее холодное дыхание. Еще секунда — и она коснется его лица. Господи!
Внезапно Берг чувствует острую боль в плече. Чьи-то крепкие пальцы хватают его и отбрасывают с невероятной силой вбок. Он слышит суровый хриплый голос, похожий на звук иерехонской трубы:
— Осторожно! Еще немного, и вас затянуло бы в машину.
Он видит над собой закоптелое лицо рабочего, его большие голубые глаза, всматривающиеся в Берга из-под нахмуренных бровей.
— Идите-ка лучше наверх и поспите, мы уж там сами за всем присмотрим, — произносит рабочей с той самой не терпящей возражений интонацией, перед которой Берг чувствует себя безвольным и слабым, как ребенок.
Сильная костлявая рука ведет его, почти несет через зал, и отпускает во дворе.
— Спасибо, — тихо говорит Берг и видит над собой огромное черное лицо неба, обильно усеянное прыщами звезд.
7.
Спустя неделю после этого происшествия Берг покинул электростанцию раньше обычного и направился за город. Золотой осенний день пахнет китайской розой. Безграничное спокойствие воздуха внушает тревогу и ужас. Все погружено в сон, ни одна ветка не дрогнет, только один за другим в этой убийственной тишине облетают листья и падают на песок, неспешно закручиваясь серпантином. Неподвижная поэзия осени.
Сухие падают листья,
размеренно падают, тихо,
шелестя, устилают бархатом землю,
испугавшись разлитой в воздухе смерти.
Над складками этой постели,
красной, лиловой и желтой,
солнце садится неспешно,
вяло, меланхолично.
Только что в шестерни самой большой машины попал старший механик Гинтер. Когда его вытащили, он был уже бесформенной кровавой массой.
Бергу вспоминать об этом неприятно, и он старается не думать о Гинтере. За неделю, прошедшую с той памятной ночи, ощущение какой-то навязчивой и упрямой враждебности нарастает с каждым днем, и Берг не может от него отделаться. Всякий раз, когда ему нужно пройти через машинное отделение, он старается сделать это побыстрее, не глядя по сторонам. Дуновение тупой бессильной ненависти, которой веет из машинного зала, наполняет его холодным необъяснимым ужасом. Он смотрит в лица рабочих и пытается уловить на них похожее чувство, однако их лица непроницаемы, они глядят на него невесело и строго. С некоторого времени Берга преследует мысль, что эти люди, работающие здесь по нескольку лет, давно посходили с ума. Он ловит себя на том, что следит за их движениями, рассчитывая найти подтверждение своим догадкам. Когда ему случается перекинуться парой слов с рабочим, он чувствует, что приходит в замешательство, и поэтому ему приходится заканчивать разговор как можно скорее.
«Только бы самому не сойти с ума», — думает Берг, а подумав так, решает сменить место работы.
Да, это будет лучше всего. Он уволится, затем устроится на конторскую работу. Это наверняка его успокоит.
Внезапно он слышит за собой дикий рев мотора. Проносящийся мимо автомобиль задевает его поворотником и отбрасывает на тротуар. Из автомобиля раздается площадная брань.
Берг совершенно выбит из колеи. Ему приходится опереться о дерево, чтобы собраться с мыслями. Страх, загнанный куда-то в глубь, снова подкрадывается и заглядывает ему в глаза.
— Нужно все это продумать, как следует продумать, — повторяет Берг и в ту же секунду чувствует, что все за него уже продумано изначально. Выхода нет. Пару минут назад он наивно полагал, что достаточно сменить работу, чтобы отгородиться от ненависти машины. Теперь он видит, что машина подстерегает его повсюду. Каждый его шаг определяет машина.
Берг вдруг чувствует себя в осаде. Все машины, которые он когда-либо видел, выползают из закоулков сознания и окружают его железным кольцом. Как слабая нить света посреди этого лабиринта криком вспыхивает в нем имя: Изольда! Он оглядывается по сторонам. Он забрел куда-то далеко, в неизвестные ему места. Только сейчас Берг чувствует, как же сильно он устал. Нужно возвращаться домой. Подъезжает трамвай. При виде трамвая он вздрагивает. Ему хочется кричать. Берг смотрит в лицо пассажира, сидящего у окна справа. Оно похоже на маску — добродушную, спокойную, самодовольную. Внезапно под действием взгляда Берга эту маску раскалывает надвое жуткая щель улыбки, и Берг на долю секунды видит алую зияющую пасть безумия в нескольких сантиметрах от своего лица.
8.
Все более странная атмосфера царит на электростанции. Незаметные перешептывания рабочих после смерти Гинтера превратились в тихое ворчание. Берг все чаще натыкается в машинном отделении на группы рабочих, разбегающихся при его появлении.
На дверях электростанции вот уже два дня висит небольшой квадратный лист бумаги с воззванием. Его никто не срывает.
Берг долго плакал той ночью, положив голову на ноги Изольды. Час пробил. Судьба выводит его на авансцену, наделив ролью освободителя.
9.
Машинное отделение, погруженное во мрак, зияет пустотой. С того момента, как Берг закрыл за собой дверь, он стоит, опершись о стену, и все хуже понимает, зачем он вообще сюда пришел. С тех пор, как он появился здесь впервые, будучи еще совсем молодым инженером, он никогда не видел этого зала молчаливым и неосвещенным. Он ошеломлен. В первую секунду ему хочется зажечь свет, однако он тут же вспоминает, что электричества нет во всем городе, так как электростанция не работает. Это возвращает его к действительности. Он старается мыслить трезво. Берг достает из кармана специально приготовленный фонарь и включает его. Узкая полоска света разрезает мрак. Из-за этого мрачная бездна кажется еще более темной. Словно черные крылья гигантских чудовищ, из нее показываются огромные контуры колес.
Берг чувствует, что если останется здесь хотя бы еще на минуту, то обратится в бегство. Он делает несколько шагов. Теперь он двигается уже совершенно механически. Путь кажется ему удивительно длинным. Берг думает, что он его уже прошел, и нужно возвращаться. Он поднимает фонарь. И только сейчас видит, что стоит под тем же самым приборным щитком. В резком свете луча, словно зрачки дикого животного, тлеют глаза часов.
Берг вынимает из кармана пальто молоток и ножовку.
Глаза часов всматриваются в него спокойно и безучастно. Рука, в которой он сжимает молоток, холодна и уверенна. Главное сейчас — сохранять спокойствие.
Очи манометров становятся странными и магнетическими. Они напоминают Бергу увиденного однажды в цирке факира, который взглядом гипнотизировал змею. Сейчас он чувствует себя, как змея, которая хочет ужалить, но не может пошевелиться, обездвиженная этим странным взглядом. Это продолжается не дольше минуты. Тогда последним усилием воли Берг резко взмахивает молотком и с удивительной для себя самого силой обрушивает его на приборный щиток.
Треск крошащегося мрамора разрывает тишину. Ясный и теплый покой, глубокий, как пруд… И вдруг происходит что-то невероятное: яркий безбрежный свет ослепляет его на секунду. Черные неподвижные колеса начинают вращаться. Берг вдруг чувствует удар чем-то твердым по голове и падает, ударяясь лицом об пол.
10.
На четвертой странице единственной газеты, весь тираж которой расхватали буквально за час, между объявлениями чернеет маленькая заметка, набранная петитом: «…обвиняемый в саботаже инженер Витольд Берг, задержанный с поличным при попытке уничтожить машины, обеспечивающие работу городской электростанции, предстанет перед рабочим трибуналом…».
11.
В огромном фабричном цехе колыхалось море людских голов. В центре возвышалась наспех сколоченная из ящиков трибуна. Худой веснушчатый студент, моргая белесыми ресницами, равнодушно зачитывает обвинительное заключение. Чернявый прилизанный бухгалтер, перехваченный в талии широким ремнем, медленно, с благоговением переворачивает страницы общей тетради. Веснушчатый студент время от времени повышает голос, который сразу начинает звучать немного плаксиво, и тогда ему вторит ропот толпы, словно ветер, проносящийся по цеху. От заседателей веет скукой и безнадегой. Приговор всем заранее известен, речь идет только о соблюдении необходимых формальностей.
Наконец студент садится, вытирая нос платком, а бухгалтер произносит тонким металлическим голосом, обернувшись куда-то вправо:
— Прошу привести обвиняемого.
Глухой ропот проносится по залу. Затем правая дверь с грохотом распахивается, и под конвоем четырех рабочих, вооруженных маузерами, входит Берг. Толпа слегка расступается, чтобы пропустить их к трибуне.
Гомон усиливается, постепенно превращаясь в шум недовольных голосов.
Звонок. Допрос продолжается.
Стрелки часов движутся с упрямой черепашьей немощью.
Неожиданно шум усиливается, и море людских голов, словно его кто-то подтолкнул, разворачивается в сторону трибуны.
На трибуне стоит Берг. Он очень бледен, взгляд его блуждает, прядь волос спадает ему на лоб. Одет он безупречно, на нем жакет. Он говорит звонким спокойным голосом, часто останавливается, подыскивая нужное слово:
— Настал день мести. Осознав свои цели, пролетариат начинает борьбу. Чтобы борьба увенчалась успехом, необходимо в первую очередь понять, кто же наш смертельный враг. Нужно уничтожить этого врага, и со злом будет покончено.
Достаточно отобрать средства у буржуазии, и армия пролетариата сразу вырастет на несколько миллионов голов. Но главная проблема пролетариата все равно не будет решена. Есть у него и другой враг, совсем близко, враг, с которым рабочий сталкивается ежедневно, за работой, незаметно пожирающей его силы, здоровье, а иногда и жизнь. Этот враг — машина. Напрасно буржуазная цивилизация гордится машиной, как величайшим достижением, которое так облегчает ей жизнь. Полагая, что изобретение машины дало ей новое оружие для борьбы со стихией и новый способ эксплуатации пролетариата, буржуазия ошиблась. Машина вымахала как паразит, проникла во все уголки жизни, и из рабочего инструмента постепенно превращается в хозяина. Буржуазия уже полностью порабощена машиной и не может без нее обойтись.
Но рабочий всегда ненавидел машину. С самого начала она была для него бедой и проклятием. Десятки тысяч безработных, тысячи смертей и увечий, вдовы и сироты без хлеба — вот что такое машина для рабочего. Сейчас, когда настал час открытой и победоносной борьбы, задача пролетариата — освободить человечество из-под власти машин. Необходимо уничтожить машину, уничтожить немедленно, если мы не хотим, чтобы она уничтожила нас.
Берг прекрасен в эту минуту. Его лицо горит румянцем, пряди волос закрывают лоб.
Раздается несколько аплодисментов, затем наступает долгая неуверенная тишина. Берг спускается с трибуны. Из-за стола встает веснушчатый студент. Он перепуган. Суетливо моргает глазами. Говорит торопливо и раздраженно. Ему кажется, что инженер решил просто поиздеваться над трибуналом, но аплодисменты, которые он слышал (следует нерешительный поворот в сторону), вынуждают его ответить. Уничтожение машин, которые являются культурным достижением всего человечества, а значит и пролетариата, было бы возвращением к варварству. Машины одинаково служат как хозяевам, так и работникам. Как же пролетариат обойдется без машин? Ведь и трамваи, и водопровод, которыми пользуется каждый, — это тоже машины.
Берг не слушает до конца. Он протисиквается сквозь толпу на улицу. Люди расступаются перед ним. Идет мелкий осенний дождик, сбивчивый, словно плач. Берг чувствует, как что-то душит его за горло. Его речь и его призывы кажутся ему дурацкой пародией. К чему все это? Ведь они такие же, как и их хозяева, только немного глупее. Да и потом уже поздно.
12.
Несколько дней спустя, когда началась всеобщая забастовка, Берг утром вышел на улицу. День начинался ясный, солнечный. На площадях стояла тишина. Трамваи не ходили. Берг вышел на самый широкий проспект и шел вверх. Улицы как-то странно пульсируют, словно пьяные. Из каждой подворотни тянет тревогой. Тишина медленно тяжелеет. Все затаилось, словно в ожидании какого-то события. Берг ускоряет шаги. Необычная тишина начинает мучить его. Ему хочется вернуться домой. На углу улицы кто-то хватает его за плечо. Светло-голубые глаза и кепка с козырьком, которую он уже где-то видел. Механик с электростанции.
— Я слышал, как вы выступали в суде, — говорит рабочий звучным мягким голосом. — Я не все понял из того, что вы говорили, но вы сказали, что наступает время, когда машины будут управлять нами, а не мы ими. Но посмотрите — одно наше движение, и все остановилось. И тишина такая, как перед сотворением мира. Что вы теперь скажете?
Он весь цветет и сияет, источая солнечный свет, радость и силу: мы! мы! Берг смотрит ему в лицо, и его охватывает безумное желание лишить его этой радости и увидеть в этих круглых глазах животный ужас. Они идут по тротуару в сторону триумфальных ворот. Берг говорит:
— Теперь уже все равно. Вы не разгадали душу машины, вы, те, кто стоял к ней ближе всех. А ведь это так просто. Душа машины — это движение, perpetuum mobile. Так что единственный воздух, которым нам остается дышать — это наша ограниченность. Последствия очевидны. Мы сделали себе смертельную прививку, которая постепенно подчинит нас целиком.
Мы движемся к финалу, причем с математической точностью. Вскоре все вокруг нас заменят машины. Мы будем передвигаться среди машин. Каждый наш шаг будет зависеть от машины. Мы капитулируем. Мы полностью отдаем себя в руки чуждой, враждебной нам стихии. Обруч железного усилия нервов, который еще удерживает нашу власть над ними, вот-вот лопнет. И тогда нам остается либо борьба, либо безумие. Никто пока что этого не видит и не понимает. Мы ослеплены своей силой. Но выхода нет. Мы сами окружили себя со всех сторон. Впрочем, это уже успело проникнуть и в наши души. Вы уже не можете жить без машины. Вы — уже нет. Сопротивление бесполезно. Остается ждать. Яд уже бродит в нашей крови. Мы отравлены собственной силой. Сифилис цивилизации.
До свидания, — наклонился он вдруг к уху механика, крепко сжав ему руку. — Мне в ту сторону…
13.
Поздним вечером, когда дежурный полицейский 10-го комиссариата уже собирался вздремнуть, в комиссариат явился мертвенно бледный человек со сверкающими глазами, представившийся Витольдом Бергом, инженером городской электростанции, и заявил, что у него украли ноги. При этом он категорически настаивал, чтобы ему немедленно выделили в помощь несколько агентов, поскольку он не может ждать ни секунды.
В комиссариате на тот момент было всего два человека, поэтому дежурный полицейский очень вежливо объяснил посетителю, что ему придется немного подождать, поскольку людей нет на месте, и с ними можно связаться только по телефону. Прибывший заявил, что дело не терпит отлагательств, и раз ему не могут помочь в этом комиссариате, он отправится в другой.
Дежурный старался задержать его, используя все мыслимые аргументы. Его товарищ, отлучавшийся позвонить, вернулся и заявил, что самое большее через три минуты агенты будут здесь.
Приступили к составлению протокола.
Однако полицейским больше ничего не удалось выведать у незнакомца — он только повторял, что сегодня, пока его не было дома, у него украли ноги.
— Вот и наши люди, — дружелюбно сказал дежурный. — Зря вы переживали.
Вошли несколько плечистых мужчин и встали по обе стороны двери.
— Агенты в вашем распоряжении, — сказал звонивший полицейский. — Будьте любезны, покажите им дорогу.
Берг на прощание пожал полицейскому руку, которую тот поспешно протянул ему, и вышел первым. Однако не успел он переступить порог комиссариата, как почувствовал на себе дюжину сильных рук, которые повалили его на землю. Он пытался вырваться, дергался, кусался, катался вместе с державшими его людьми по земле, несколько раз ему даже удавалось освободиться, но в конце концов он упал, оглушенный и связанный. Он чувствовал, что плывет куда-то вниз по крутому склону; потом ненадолго его овеял влажный весенний воздух. Наконец ему показалось, что его запихивают в какую-то тесную коробку. Крышка коробки захлопнулась. Берг потерял сознание.
Дежурным 10-го комиссариата, видимо, не суждено было уснуть той ночью. Едва стихли шаги внизу, комиссариат был извещен по телефону, что на улице N в доме №14 отравилась серной кислотой журналистка Изольда Морган, которая два месяца назад в результате трамвайной аварии потеряла обе ноги.
14.
Когда он очнулся, было уже совсем светло. Через небольшое зарешеченное окно под потолком в помещение струился ослепительно белый свет месяца. Комната была маленькая, без мебели. В снопе лунного света переливался вымощенный камнями пол.
Он поднялся легко и плавно. Только теперь он заметил, что связан. Без малейших усилий он сорвал с плеч какой-то подозрительный халат и сунул его под кровать. Месяц светил ясно и невозмутимо.
«Пойду на улицу», — подумал Берг и подошел к двери. Однако у двери не было ручки, и она была заперта. Тогда он медленно подошел к стене, поднажал слегка, отодвинул ее и вышел.
На улице его сразу поглотила возбужденная, спешащая куда-то толпа. Он шел, то и дело подталкиваемый другими людьми, по широким, ярко освещенным улицам, которые были ему незнакомы. Месяц сиял, словно огромная электрическая лампа, заливая все вокруг ярким холодным светом. На углу одной из улиц он вдруг почувствовал, что кто-то взял его под руку. Он повернул голову. Рядом с ним шла стройная молодая девушка с милым детским лицом и длинными темными ресницами. Они шли, не говоря друг другу ни слова. На следующем перекрестке девушка свернула. Он послушно шел рядом с ней, даже не задумываясь, куда идет. Так они прошли вместе всю улицу. На следующей девушка завела его в большой черный дом, слабо освещаемый керосиновой лампой. Он поднялся по узким деревянным ступенькам на третий этаж. Она повернула ключ в замке и открыла дверь.
В небольшой, чисто обставленной комнате она усадила его на кровать и начала раздеваться. Когда она сняла сорочку, он увидел, что у нее маленькие, очень белые и упругие груди и широкие, ладно скроенные бедра. Он вспомнил, что уже два месяца у него не было женщины. Он взял ее жадно, как вгрызаются в краюху хлеба во время голода. Бедра у нее были мягкие и эластичные, словно на пружинах — они ритмично поднимались и опускались, так что Берг мог оставаться неподвижным, а соитие происходило как бы само по себе. Он брал ее еще и еще. Когда он, уставший, вытянулся на подушках, она начала одеваться. Тут он вспомнил, что у него нет денег, и сказал ей об этом. Она не рассердилась. Быстро оделась. Сказала, что ей нужно идти. Они вышли и у подъезда разошлись в разные стороны.
Улица, по которой шел Берг, была полна народу. Все быстро бежали, будто чем-то напуганные, в одну сторону. Чтобы его не затолкали, Берг сошел с тротуара и дальше шел по проезжей части. Он думал о странной женщине, с которой он только что был, и о ее удивительных бедрах. Вдруг он услышал за спиной протяжный зловещий скрежет. Он обернулся. Прямо за ним ехал трамвай, уже почти касаясь его спины. В этот момент Берг заметил, что идет прямо посередине стертых до блеска рельсов. Он кинулся бежать что было сил. Свернуть в сторону он не мог. Берг отлично понимал, что стоит ему коснуться ногой рельса, как он поскользнется, и трамвай переедет его. Он бежал вперед между рельсами с поразительной для самого себя скоростью, слыша за спиной зловещее пение гонящегося за ним трамвая. Он пытался кричать — бесполезно. Стоп, секунду, тут ведь должна быть какая-нибудь остановка… Но остановки не было. Наконец она замаячила вдали. Берг напряг все силы. Только бы добежать. И он добежал.
Но трамвай не притормозил на остановке и несся дальше все с той же скоростью. Так они миновали одну остановку, потом следующую. Вдруг Берг почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове, а ноги словно налились свинцом. В голове зазвучало старое, полузабытое, когда-то написанное им восьмистишие:
Это случится однажды — внезапно, точно удар под дых,
но при этом буднично, как история, почти бытовая:
вы вдруг заметите, что на остановках любых
перестали останавливаться грохочущие трамваи.
Они будут вихрем лететь, источая адреналин,
и трястись на ходу, как если бы бил их припадок,
чехарда одуревших, багровых, задыхающихся машин —
двоек, троек, пятерок, девяток.
Он обернулся — трамвай догонял, почти касаясь его спины. На табло горел номер «9». Мимо проносились другие трамваи. На задней площадке одного из них Берг увидел держащуюся за поручень Изольду, которая махала ему платочком. Тогда из последних сил он подпрыгнул и уцепился обеими руками за торчащий глаз фонаря, повиснув в воздухе.
Рядом с ним пролетали один за другим длинные ошалевшие трамваи, полные бледных, обезумевших от ужаса людей.